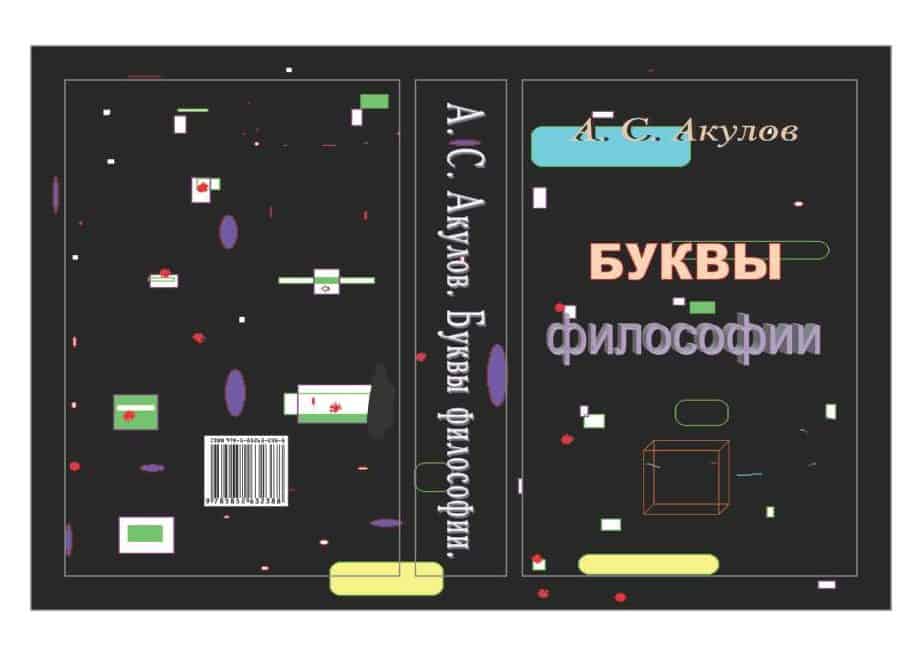Фонетическая близость
исходного варианта монгодан и Магадан выглядит почти удовлетворительной. Вместе с тем, вызывает сомнение возможность потери при адаптации пришлым русскоязычным населением звука “н”, а не “г” в исходном слове, как это произошло, например, в случае трансформации эвенского гидронима Тэнгкэ в Тенке, Тенька [Леонтьев, Новикова, 1989. С. 239], а также Монгке [Там же. С. 258] в Монке [Стратиграфический…, 1959. С. 82] и Манкэ [Магаданская…, 1995]. То есть предпочтительнее выглядит окончательный вариант предполагаемой трансформации – Монодан, а не Магадан. Кстати, топоним Монгке в “Топонимическом словаре Северо-Востока СССР” [Леонтьев, Новикова, 1989. С. 239] выводится (со ссылкой на А. И. Хардани) из эвенского монгке – “дровянистое место у реки”, что расценивается авторами в качестве “неединичности” таких топонимов при обосновании господствующей версии происхождения топонима Магадан. Однако даже в небольшом по объему “Русско-эвенском разговорнике” [Бурыкин, 1991. С. 62] имеется слово монгкэ и переводится оно на русский язык как “голец” (разновидность лососевых рыб). Это слово, разумеется, есть и в более полных эвенско – русских словарях [Левин, 1936; Роббек и др., 1988]. Основания для такого названия правого притока р. Вилига достаточны. Река Манкэ [Магаданская…, 1995] по своему размеру и другим показателям вполне пригодна для осеннего нереста и зимовки гольцов. Еще один приток Вилиги – Маймачан – также имеет “рыбное” название – “мальмовая” из эвенского манма – “мальма” (разновидность арктических гольцов) [Леонтьев, Новикова, 1989. С. 240; Бурыкин, 1991. С. 62].
Топографическое совпадение. По сведениям Б. Г. Щербинина, В. В. Леонтьева [1980. С. 87, 88],
B. В. Леонтьева, К. А. Новиковой [1989. С. 239], А. А. Бурыкина [1999. С. 156] и др. название Монгодан относилось не к обширному перешейку (4×6 км) п-ова Старицкого, на котором возник г. Магадан, а лишь к его малой части – приустьевому участку реки с современным названием Магаданка, на котором располагались две эвенские (по свидетельству А. А. Кочерова и В. А. Цареградского [Кочеров, 1959.
C. 106; Цареградский, 1980. С. 68; Щербинин, Леонтьев, 1980. С. 87]) или якутские (по свидетельству
В. А. Цареградского [Устиев, 1976. С. 125]) летние юрты. То есть топонимы относятся к разным объектам: урочищу в устье р. Магаданка и перешейку п-ова Старицкого. Первый является лишь малой частью второго.
Ранговое соответствие. По рангу (географическому, хозяйственному и др.) предполагаемое исходное урочище Монгодан явно не соразмерно перешейку п-ова Старицкого – крупному элементу ландшафта побережья Тауйской губы, служившему узлом местных коммуникаций на границе экзогамных родов оленных эвенов, кочевавших в бассейнах pp. Яна и Армань, с одной стороны, и Ола – с другой; а также располагавшемуся на границе сфер влияния тауйских и ольских камчадалов [Попова, 1981. С. 812]. Кроме того, перешеек вместе с приметным п-овом Старицкого был важным ориентиром на Охотско-Камчатском почтовом тракте, существовавшем с XVIII в., извозом на котором занималось местное население. То есть этот перешеек, несмотря на то, что на нем не было постоянных поселений [Кочеров, 1959. С. 106-109], был хорошо известен кочевым и оседлым жителям Тауйского побережья и имел для них большое значение и просто не мог быть безымянным.
Среди нескольких конкурирующих вариантов названия всего перешейка п-ова Старицкого, а не его какой-либо малой части, как уже отмечалось, известен издавна Дзялбу, Дялбу или Зялбу [Попова, 1981. С. 135-137; Леонтьев, Новикова, 1989. С. 239]. Роль места сбора выполняли и имели такое название ‘Дзялбу” и другие урочища Тауйского побережья: 1) у Мотыклейского залива; 2) при слиянии Кавы и Челомджи и 3) в устье Яны [Попова, 1981. С. 136, 137]. Все они располагались, как и перешеек п-ова Старицкого, в примечательных местах, однако на картах в качестве топонимов также не зафиксировались.
- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву
- Итоги проверки новой гипотезы
- Версия фиксации топонима магадан
- Краткая историко-географическая и этническая характеристика примагаданья
- Известные варианты этимологии
- Степень распространенности аналогичных топонимов в регионе
- Майданы в системе обороны Московского государства