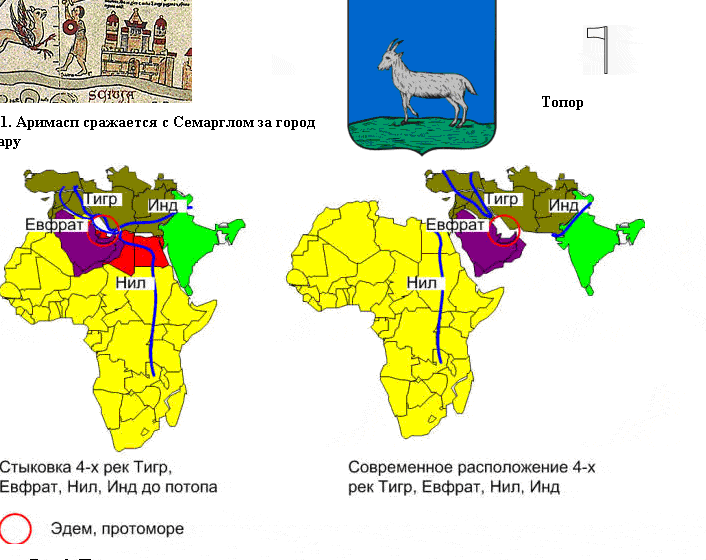Известно несколько наиболее распространенных вариантов толкования названия г. Магадан [Юнга, 1937. С. 179; Галченко, 1963. С. 9,10; Щербинин, Леонтьев, 1980. С. 86,87; Леонтьев, Новикова, 1989. С. 239; Магадан. Конспект…, 1989. С. 10, 11; Магадан: Путеводитель-…, 1989. С. 213; Силантьев, 1997. С. 120-123; Иконникова, 1999; Дворянинов, 2002. С. 299-303; Нехорошков, 2003; Бурыкин,
2003. С. 97, 98].
Среди них господствует версия трансформации его из эвенского слова монгодан, что переводят на русский язык как “морские наносы”, “плавник”, “валежник”, “жилище из плавника”. Другим вариантом объяснения служит, по мнению геолога И. И. Галченко [1963. С. 9,10], происхождение названия города из имени легендарного обитателя этих мест эвена по прозвищу Магда, производному от эвенского слова мугдэн, мугдэкэн – “пень”, с его искаженными вариантами – Магдыга, Магдага, Магадан. Е. М. Поспелов [1988. С. 117] ставит этот вариант толкования топонима Магадан на первое место, а версию на основе слова монгодан – на второе. По данным на начало XX в. гидрографа Б. В. Давыдова [Лоция…, 1938. С. 279], автора лоции Охотского моря, речка с современным названием Магаданка именовалась Молотар, что переводят с эвенского как “дельфин”, “белуха” или “изгиб”, “излучина” [Бурыкин, 2003. С. 97, 98] Это дает возможность развивать гипотезу преобразования топонима Молотар в Магадан.
По этому пути пошел С. А. Дворянинов [2002. С. 299-303] и привел интересные доводы в пользу такой версии. Он обратил внимание на то, что характерной природной особенностью перешейка п-ова Старицкого является обычное для летнего периода “перемещение то в одну, то в другую сторону верениц клубов тумана” между бухтами Нагаева и Гертнера, разделяемыми перешейком, а затем связал это с прежними названиями бух. Нагаева – Волок и Мивкан. При этом важно, что мивкан переводится с корякского как “туманное место”, а в значении слова волок имеется смысловой оттенок “обволакивать”. Кроме того, в очертаниях п-ова Старицкого С. А. Дворянинов угадывает контуры белухи с детенышем. В результате всех этих особенностей конструируется образ в виде стада белух с клубящимся над ним туманом от дыхания. Это, по-видимому, соответствует поэтическому образному мышлению местных жителей, но выглядит довольно сложно для генерирования и последующей фиксации топонимов на малонаселенной территории с господством на ней в течение многих предшествующих веков бесписьменных культур. Добавляет сомнений в эту версию то, что преобладавшие на Тауйском побережье эвены были преимущественно сухопутными оленеводами. Морским промыслом нерестовых лососей с использованием простейших плавсредств они занялись лишь в начале XX в. [Попова, 1981. С. 104-112; Резиновский, 1983. С. 18-20] под давлением сначала купеческой предприимчивости, а затем продуктовых потребностей Дальстроя. Подобные образы морской тематики, вероятно, более свойственны прежним обитателям Тауйского побережья – корякам – оседлым морским рыболовам и охотникам. В целом эта гипотеза скорее объясняет происхождение, вероятно, бытовавшего названия Молотар, чем Магадан. А переход от фонетической формы молотар к Магадан весьма проблематичен.
Магаданский геолог и краевед Ю. Ф. Нехорошков [2003], воспользовавшись наблюдением
В. Б. Шостаковича о наличии на Северо-Востоке России – в местах былого расселения юкагиров – гидронимов, оканчивающихся на -дан, – дон (Кедон, Коркодон, Ярходон, Алдан и др.), что восходит к иранскому и авестийскому danu – “река” [Мурзаев, 1984. С. 188], сформулировал гипотезу о скифско – юкагирском происхождения топонима Магадан из слова монгодан – “бухта с курганами или утесами”. Единственным аргументом для причисления юкагирского языка – наряду со скифским и осетинским – к иранским послужило, в данном случае, отмеченное сходство гидронимов Юкагирского плоскогорья с причерноморскими, осетинскими и южносибирскими. Языковеды родства юкагирского языка (относящегося к так называемым генетически изолированным палеоазиатским) с иранскими языками не усматривают и даже склоняются к тому, что “многие грамматические и лексические элементы являются в этом языке общими с уральскими и алтайскими языками” [Крейнович, 1968. С. 435].
Представляется весьма проблематичным сохранение очень древнего территориально изолированного, предположительно юкагирского названия на территории Приохотья, населенной в течение многих последних веков протокоряками, коряками, тунгусами, не имевшими письменности. Так, А. А. Бурыкин считает, что “подавляющее большинство гидронимов – названий рек, впадающих в Охотское море, имеет чукотско-корякский характер. Названия бесспорно тунгусского (эвенского) происхождения в этом ареале весьма немногочисленны (к ним относится название города Магадан…)” [2001. С. 148]. К тому же, при раскопках и скрупулезных археологических исследованиях около десятка древних стоянок Тауйского побережья [Васильевский, 1971; Лебединцев, 1990] никаких признаков юкагирской или скифской культуры не обнаружено. Ошибочным является утверждение об отсутствии других топонимов, близких к слову Магадан, в Сибири и на Дальнем Востоке. Как будет показано в разд. 5.1, на территории расселения эвенков и эвенов – от Томи до Охотского моря – выявлено свыше трех десятков географических названий на основе магцд-, магд-, могд-, мугд-, мукд-, мэгд-. Сведения о наличии в Северном Приохотье курганов, подобных скифским, пока не подтвердились. В довершение всего, наиболее вероятно, что топоним Магадан, как следует из анализа опубликованных документов (разд. 3), появился раньше его предполагаемого исходного варианта Монгодан.
Ю. Ф. Нехорошков насчитывает около 20 версий происхождения названия г. Магадан. Такое изобилие является дополнительным подтверждением их несостоятельности. Большинство вариантов этимологии топонима Магадан представляют собой, по мнению Б. Г. Щербинина и В. В. Леонтьева [1980. С. 86], ничем не обоснованные домыслы. Так, И. Е. Гехтман в книге “Золотая Колыма”, изданной в 1937 г., писал, что, поскольку слово Магадан означает “морские наносы”, а “скала, на которой выстроен Нью – Йорк, – Манхаттан – на индейском языке обозначает «морские камни», совпадение слов не случайно. Оно свидетельствует о родстве туземцев Охотского побережья – коряков, чукчей, эвенов – с индейцами Аляски и Северной Америки” [Магадан: Путеводитель-…* 1989. С. 213]. Эта гипотеза не выдерживает никакой критики уже хотя бы потому, что Манхаттан переводится на русский язык с алгонкинского как “остров холмов” или “холмистый остров”, а отнюдь не “морские камни” [Никонов, 1966. С. 256]. Да и само родство языков народов Северо-Востока Азии и Востока Северной Америки является очень маловероятным, поскольку они сформировались в условиях длительной (несколько десятков тысяч лет) изоляции друг от друга – после исчезновения “Берингийского моста”, по которому предки индейцев и эскимосов, вероятно, проникли в Америку. Кроме того, дробность индейских языков настолько велика, что затруднительна их классификация по степени родства даже между собой [БСЭ. Т. 10, с. 182184]. И, вообще, глоттохронологические (т. е. историко-лексикологические [Ахманова, 1969. С. 109, 232,233]) предположения о моногенезе (едином происхождении) всех языков Америки и Старого Света на основе лексикостатистических исследований применительно к периодам, превышающим 4-5 тысячелетий, “не являются надежными” [БСЭ. Т. 30, с. 467-470]. К тому же, морская часть лексики языков тунгусских племен начала формироваться, скорее всего, лишь с момента выхода их на побережье Тихого океана – т. е. главным образом во второй половине II тысячелетия новой эры.
Показателем интереса к происхождению названия г. Магадан могут служить все появляющиеся новые версии, зафиксированные даже в поэтическом творчестве [Чиркина, 2003].
Баллада о Магадане
Старый учитель начал рассказ:
“Откуда у города имя это?
Спорят давно. И тогда, и сейчас Никто не нашел на него ответа.
Одни полагают, что «Монгодан»,
Что по-эвенски – «морские наносы», Другие, что он «Манаа» и «дан»,
Что по-якутски – «пасти березы».
Может, и правда, пронесся тайфун,
Оставив на сопках большие наносы,
А может, и тот и другой, не лгун,
Сказав, что когда-то росли здесь березы”.
“А может, корень названья в другом? – Дети спросили и смолкли снова – На картах морских карандашом Есть надпись: «Маг. ан.» Что это за слово?”
“Магнитная аномалия”, – ответ таков.
Люди не испугались его определения, Причалив у северных берегов,
Вскоре построили первое поселение.
Возможно, моряк моряку сказал, Возвращаясь сюда потом:
“Вот тебе и «маг» и «ан»,
Да тут уже люди живут кругом!”
Слетело с губ моряка: “Маг да ан”
И пошло гулять среди людей,
И стало название “Магадан”
Именем Родины малой моей.
(Дарья Чиркина 6-й класс, английская гимназия, г. Магадан)
Несмотря на наличие литературных достоинств этой баллады, изложенные в ней расхожие гипотезы по уровню доказательности не выходят за рамки недостаточно аргументированных догадок.
В предлагаемой работе выполнен анализ господствующей этимологии на соответствие критериям: 1) фонетической близости исходного и окончательного топонимов; 2) топографического их совпадения; 3) рангового (географического, экологического, хозяйственного) соотношения называемого объекта и объекта, генерирующего топоним; 4) наличия ко времени закрепления (фиксации) топонима конкурирующих вариантов; 5) степени распространенности аналогичных топонимов в регионе; 6) исторической логичности процесса генерации, трансформации и фиксации топонима. Излагается новая гипотеза происхождения названия г. Магадан, более удовлетворяющая указанным критериям.
- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву
- Итоги проверки новой гипотезы
- Версия фиксации топонима магадан
- Краткая историко-географическая и этническая характеристика примагаданья
- Тунгусский ареал
- Проникновение в Тунгусский ареал
- Догадки к новой гипотезе этимологии