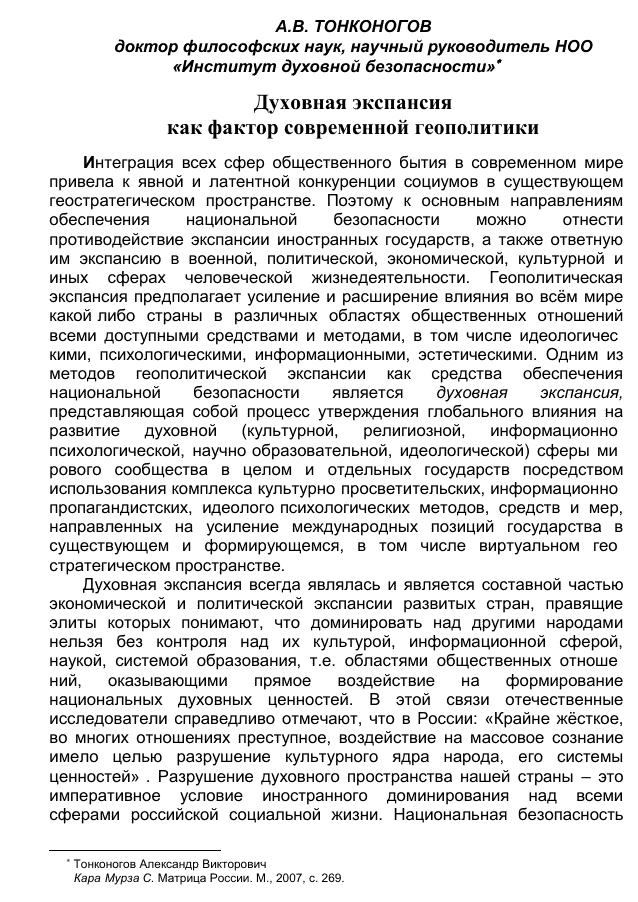Предположение о возможной роли Арабского Халифата, государства Сельджуков и Османской империи, во время их роста, в распространении топонимов на основе слова майдан основано на обнаружении ряда подобных географических названий на территориях, подвергшихся в свое время арабским и османским завоеваниям в Аравийском, Алжирском и, отчасти, Балканском ареалах – преимущественно за пределами максимального продвижения монголо-татарских орд и войск Тимура (см. табл. 2,3; рис. 5, 10). Эта версия не находит подтверждения, поскольку такие топонимы весьма редки и фонетически далеки от основных форм. Так, с арабскими завоеваниями VII-VIII вв. “слово” не проникло, например, в Северную Африку и Испанию, о чем можно судить по почти полному отсутствию там топонимов на основе майдан [Атлас Африки, 1968; Атлас мира, 1967. С. 70, 71, 160-165; Атлас мира. Указатель…, 1968; Испания…, 1959]. В Магрибе выявлен только один топоним Меджареф, несколько близкий палестинской Магдале и ее арабским вариантам (см. табл. 2-4). Появление его на территории современного Алжира можно объяснить проникновением сюда христианства в эпоху поздней Римской империи [Большой…, 1905а; Historyczny…, 1974. S. 28], а обретение такой фонетической формы – последующей арабской адаптацией.
Не обнаруживаются топонимические следы слова майдан, связанные с завоеваниями государства Сельджуков в XI в. и Османской империи в XV-XVI вв. В западной половине Анатолии нет соответствующих топонимических свидетельств [Атлас мира, 1967. С. 146, 147; Турция, 1966; Turkey, 1992]. Более 10 географических названий на основе слова майдан известны на Балканском полуострове – в Югославии, Румынии и Болгарии; но их совершенно нет в Греции [Большой…, 1905а, б; Атлас мира, 1967. С. 90-97, 99-100; Атлас мира. Указатель…, 1968. С. 232, 247; Греция, 1974], также много веков находившейся под турецким владычеством. То есть почти все балканские топонимы, как это было показано в разд. 6.1, 6.8, можно связывать исключительно с завоевательным походом армии монгольского хана Бату в 1241-1242 гг.
К тому же, рассмотренное предположение в принципе не способно объяснить появление многочисленных топонимов на основах, майдан-, мейдан-, магдан-, мегдан – и т. п. в Абиссинском, Индийском, Китайском и Тунгусском ареалах. При этом все-таки остается некоторая доля вероятности образования отдельных топонимов, как-то близких к слову майдан и связанных с арабской, османской, монголотатарской и исламской экспансией. Это относится к топонимам отмеченных Аравийского, Алжирского, Балканского, а также Индонезийского ареалов. Последний мог возникнуть благодаря проникновению сюда мусульманства. Вместе с тем, во всех перечисленных случаях имеются другие – вполне конкурентоспособные варианты объяснений.
После отбраковки рассмотренных версий остается только один предполагаемый вариант распространения представления об Армагеддоне (Магедоне) за пределы Палестины и Восточного Средиземноморья. Это – экспансия религиозных учений христианского направления и особенно тех его течений, которые признавались официальной церковью в качестве ересей: манихейство, несторианство, монофи – зитство. Они подвергались гонениям в христианском Средиземноморье, отчего еретики массово бежали на Восток, где находили приют даже среди воинственных правоверных мусульман как враги ортодоксальных христиан. “На обширных территориях – от Ирана до Центральной Индии, от Индии до Аральского и Каспийского морей – по оживленным торговым путям шли не только купцы, но и проповедники, миссионеры старых и вновь возникших религий. Из Индии в эти страны распространился буддизм, из Западного Ирана проникло манихейство. Появилась богатая переводная литература – светская и религиозная. Нам известно о ней лишь по тем немногим фрагментам, которые удалось найти в песках Центральной Азии и при раскопках древних поселений” [Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 56].
Одной из таких ересей было манихейство (синтез зороастризма с христианством), возникшее в Вавилонии в середине III в. [Атеистический словарь, 1983. С. 275; Всемирная история. Т. 2, с. 759; Т. 3, с. 513-527]. Мани (Манес) начал свою проповедь около 240 г. в Ктесифонте, столице правителей династии Сасанидов. Первоначально персидский царь Шапур I покровительствовал его религиозной деятельности, однако позднее Мани пал жертвой зороастрийских жрецов, которые казнили его около 277 г. По преданию он проповедовал свое учение в Персии, Средней Азии, Индии. В I тысячелетии манихейство распространилось от Испании до Китая, подвергаясь гонениям со стороны зороастризма, римского язычества, христианства, ислама. Наибольшее развитие оно получило на Востоке, где были слабы позиции других конкурирующих религий. В VIII в. манихейство стало господствующей религией в Уйгурском царстве (на р. Орхон на территории современной Монголии). Манихейство на протяжении ряда веков сохраняло многих приверженцев на Востоке, даже при мусульманских правителях, и было искоренено в XIII в. после монгольских завоеваний. А в Китае манихейство просуществовало вплоть до конца XIV в. В Византийской империи и на Западе оно как самостоятельная религия было уничтожено гораздо раньше в результате жестоких гонений.
Напряженность религиозно-идеологической борьбы, развернувшейся во времена средневековья, связанной с распространением манихейства, хорошо иллюстрирует высказывание по этому поводу Л. Н. Гумилева [2002. С. 334]: “В IX-XI вв. непримиримыми по отношению к христианству, исламу и хинаяническому буддизму были сторонники учения пророка и философа Мани… Учение его распространилось на восток до Желтого моря, а на запад до Бискайского залива, но нигде не могло укрепиться из-за своей непримиримости. К началу IX в. манихейская община, как таковая, исчезла, но она дала начало множеству учений и толкований, породивших несколько сильных движений, резко враждебных христианству и исламу. Повсюду, где только не появлялись манихейские проповедники, они находили искренних сторонников, и всюду текла кровь в таких масштабах, которые шокировали даже привыкших ко всему людей раннего средневековья”. Из христианства манихейство заимствовало идею мессианства. А именно с этим в значительной мере связано представление об Армагеддоне в “Откровении Иоанна Богослова”. Таким образом, это слово и его смысл могли быть известны на Востоке еще до начала II тысячелетия. Подтверждением этому служат известные манихейско-уйгурские письменные памятники второй половины первого тысячелетия [БСЭ. Т. 8, с. 490].
Другим христианским религиозным течением, проникшим далеко на Восток, было несторианство [Атеистический словарь, 1983. С. 329; БСЭ. Т. 17, с. 522, 523]. Названо оно по имени константинопольского патриарха Нестория, признававшего Христа человеком, который преодолел человеческую слабость и стал мессией. Несторианство было осуждено как ересь на III Вселенском соборе в Эфесе в 431 г. Однако определение против Нестория было выдвинуто поспешно и слабо аргументировано, что вызвало недовольство и раскол. Спасаясь от преследования ортодоксальной церкви, несторианцы эмигрировали в Персию и в 499 г. объявили об отделении от Константинопольской церкви, образовав собственный патриархат с резиденцией в г. Селевкия-Ктесифон (Багдад).
Несторианство довольно быстро распространилось по Азии, проникло в Китай и Монголию к кереитам и найманам через уйгуров. Археологические материалы подтверждают сведения летописей о распространении несторианства среди народов Центральной Азии. В Китае севернее Великой стены были найдены развалины несторианского города, описанного Латимором. Надгробные несторианские памятники обнаружены на юге Китая.
В VII-VIII вв. правители Арабского халифата, нуждаясь в квалифицированных кадрах для управления огромными завоеванными территориями, стали покровительствовать наиболее грамотной части населения древней Ассирии, где находилась их столица Багдад. Такими людьми оказались в своем большинстве ассирийцы, приверженцы несторианства [Савва, 2001]. “Багдадские халифы искали себе славы покровителей наук и искусств. Несторианские ученые и чиновники сделались их ближайшими помощниками и были наделены религиозной свободой и другими привилегиями. В ассирийских школах того времени преподавали историю, географию, астрономию, математику, сельское хозяйство, медицину, иностранные языки. По своей значимости они приравнивались к средневековым университетам, не уступая им и в количестве учеников. Например, Нисибинская академия (на севере Месопотамии) насчитывала несколько сотен слушателей. Выпускников школ посылали для пропаганды несторианства в Китай, Монголию, Маньчжурию, Корею, на Тайвань, в Сибирь, Индию, на Цейлон, в страны Средней Азии и т. д. Миссионерская деятельность была очень развита у несториан и, надо сказать, успешна. Несторианская церковь постепенно охватила собой почти всю Азию”.
“Материальными свидетельствами этого являются руины храмов и монастырей, богослужебная утварь, нательные крестики и медальоны, тысячи надгробных камней с изображением распятия. Мис – сионеры-несториане обращали в веру даже енисейских кыргызов (живших в Минусинской котловине. Выделено и уточнено мною. – Б. В.), чему есть убедительные доказательства – многочисленные рунические надписи, оставленные древнетюркскими христианами, и художественные изделия из металлов с религиозной символикой” [Каримов, 2001]. Не обходили вниманием проповедники и монгольские племена, обитавшие по соседству с древними тюрками. Несторианство исповедовали родственные монголам кераиты и найманы. Несторианами были также покоренные монголами в 1209 г. уйгуры. Государственной религией несторианство, правда, у степняков не стало – монгольским ханам, к примеру, креститься строжайше запрещалось. Однако это не мешало Чингисхану и его преемникам, по свидетельствам арабских и европейских путешественников, поддерживать последователей еретического вероучения. Католический монах Вильгельм Рубрук, побывавший в ставке кочевников (в 1253-1255 гг.), с удивлением узнал, что миссионеры еретиков тайно крестят внуков Чингисхана (среди них – Ариг-буга – законный претендент на титул великого хана после смерти Мункэ в 1259 г., проигравший в четырехлетней вооруженной борьбе за власть своему старшему брату Хубилаю). А многие необращенные высокопоставленные монголы, в том числе два сына Чингисхана, а также великий хан Мункэ и его брат Хулагу (ильхан с 1258 г.) женаты на несторианках [Каримов, 2001; Монгольская держава…, 2001; Гумилев, “Синхрония”].
Дополняют представление о роли манихейства и несторианства в истории монголов и соседних народов выдержки из “Синхронии” Л. Н. Гумилева и “Монгольской державы Чингисхана” [2001]:
“817 г. – манихейские учителя высланы из Китая;
845 г. – национальная реакция в Китае: секуляризация буддийских монастырей; сожжение мани – хейских книг и изображений;
920 г. – восстание манихеев в Китае подавлено;
956 г. – изгнание из Китая буддистов, несториан и манихеев;
998 г. – изгнание несториан с китайской границы в степь (надо полагать, в монгольскую или уйгурскую. – Б. В.);
1001 г. – изгнание христиан (несториан. – Б. В.) из Китая;
1009 г. – крещение кераитов в несторианство;
1252 г. – Берке (хан Золотой Орды в 1258-1265 гт. – Б. В.) и Шейбан (внуки Чингисхана и сыновья Джучи. – Б. В.) приняли ислам. Сартак – несторианин;
1256 г. – отравлен Сартак (сын и преемник Бату. – Б. В.) за симпатии к христианству. Резня несториан в Самарканде и Бухаре;
1259 г. – законный наследник (великого хана. – Б. В.) – Ариг-буга (христианин – несторианин. – Б. В.);
1283 г. – Аргун (несторианин, ильхан хулагуид. – Б. В.) убил Ахмада и отверг ислам
1291 г. – Аргун, защитник христиан, умер;
1304 г. – запрещение пропаганды христианства (несторианства. – Б. В.) в империи Юань и передача буддистам христианских храмов в Китае;
1307 г. – христианин (несторианин. – Б. В.) иль-хан Олджайт принял мусульманство;
1319 г. – подавление восстания персидских несториан-монголов;
1327 г. – Абу-Саид (последний ильхан из монгольской династии хулагуидов. – Б. В.) казнил эмира Чобана, губителя несториан;
1338 г. – в Средней Азии кровавые столкновения между христианами (несторианами. – Б. В.) и мусульманами”.
Приведенные свидетельства отражают главным образом факты негативного отношения властей и отчасти населения к манихейству и несторианству на Востоке, однако по ним видно, насколько широко эти вероучения распространились там, отчего приходилось с ними бороться административными и военными средствами.
Еще несколько фактов красноречиво характеризуют готовность монголо-татар к восприятию православия и взаимоотношение “братских” христианских религий: в 1054 г. главы Римской католической и Константинопольской православной церквей взаимно предали друг друга анафеме [СИЭ. Т. 15, с. 670]; в 1256 г. папа объявил крестовый поход против монголов и русских; а в 1261 г. произошло перенесение Переяславской православной епископии в Сарай [Гумилев, “Синхрония”].
“В 1253 году хурултай (военный совет Орды) решил освободить Иерусалим от мусульман (выделено мною. – Б. В.). Хан Мункэ публично поклялся в случае успеха вторжения на Ближний Восток обратить в несторианство все покоренные страны. И в 1259 г. монголы под командованием Хулагу-хана (буддиста, однако имевшего жену-христианку) вместе с войском Гетума I, царя Малой Армении (Киликии), выступили в крестовый поход. Двадцатитысячное монголо-армянское войско начало кампанию очень удачно: союзники взяли на своем пути много городов, в том числе Багдад и Дамаск. Христиане (армянские и монгольские. – Б. В.) боролись с исламом – жгли мечети, освобождали единоверцев” [Сав – ченков, 2001].
По мнению А. Савченкова, в монгольском войске насчитывалось не менее трети несториан. Д. Каримов [2001] считает даже, что большинство монголо-татар были крещеными (несторианами).
Н. Мулладжанов [2001] высказывает сомнения в этом. Сколько было несториан в монголо-татарском войске – большинство, треть или меньше – в принципе не важно. Значимо то, что христианское вероучение, пусть и в несторианском виде (надо отметить, существенно не отличавшемся от ортодоксального), было хорошо известно на Востоке (включая Монголию, Уйгурию, Маньчжурию и Китай), причем не только знати, но и простолюдинам. Примечательно, что христианские идеи проникали на Восток и много ранее – во второй половине I тысячелетия – в виде манихейства. Таким образом, можно считать, что в Великой евразийской степи и ее окрестностях представление об Армагеддоне и Магедоне было известно давно – задолго до начала завоевательных походов монголо-татар. Следовательно, слово Магедон имело достаточно времени для того, чтобы закрепиться в сознании тюрко-монгольских кочевников и адаптироваться в их языках в форму майдан. При этом не исключена посредническая роль иранских языков, господствовавших в Туркестане до последовавшей во II тысячелетии тюркизации оседлого местного населения в результате многочисленных нашествий кочевников из Великой степи. Вероятно, в начале XIII в. это слово стало одним из важнейших в военном лексиконе монголо-татар.
Отсутствие топонимов в форме майдан в пределах Монгольского ареала (см. рис. 8, табл. 2-4) можно объяснить тем, что монгольская группа языков выделилась в составе гипотетической алтайской макросемьи только в XIV-XVI вв. [БСЭ. Т. 16, с. 520,521]. Кстати, языком официального делопроизводства в средневековой Монголии до 1269 г. был уйгурский (тюркская группа), он же, по-видимому, служил языком межнационального общения в разноплеменной монголо-татарской орде [Всемирная история. Т. 3, с. 514, 525]. Уйгуры с IX в., откочевав с Орхона в Джунгарию и Кашгарию, были восточными соседями среднеазиатских и иранских цивилизаций, от которых много позаимствовали в культурном развитии, в том числе и письменность, появившуюся у них в конце I тысячелетия на основе арамейской через согдийское посредство [БСЭ. Т. 26, с. 530, 531]. Возникшие во времена средневековья в пределах Монгольского ареала топонимы, близкие к тюркской форме майдан, по-видимому, были существенно трансформированы в процессе становления монгольских и тувинского (хотя и относимого к тюркской группе, но весьма близкого к монгольским) языков.
Предположение относительно преобладания тюркских языков в межнациональном общении в Монгольской империи и в ее огромных и также разноплеменных улусах можно подкрепить статистическими данными о количественном соотношении народов алтайской языковой семьи, вовлеченных в монгольские завоевания. Они, правда, характеризуют современное состояние, но, вероятно, в какой-то мере являются отражением средневековых пропорций. Так, по данным в Атласе народов мира [1964. С. 150], общая численность людей, говорящих на языках алтайской семьи, достигла 68 732 тыс. Из них подавляющее большинство – 91% относится к тюркской языковой группе, около 5% – к монгольской и около 4% – к тунгусо-маньчжурской. По количеству языков соотношение групп в алтайской семье не столь контрастно, но также явно преобладают тюркские. Они составляют 60% из 58 алтайских языков. На языки монгольской и тунгусо-маньчжурской групп приходится по 20%. На современное явное преобладание тюркских языков в алтайской семье, вероятно, повлияли упомянутая тюркизация оседлого ираноязычного населения Туркестана, завершившаяся после эпохи монгольских завоеваний, а также спад численности представителей монголоязычных племен, последовавший за их демографическим взрывом начала II тысячелетия и из-за физической гибели множества монголов в течение двух веков захватнических войн. Однако едва ли количественное соотношение между тюрками и монголами в начале XIII в. было обратным по отношению к современному. Огромные потери понесли и тюркские народы. Так, в результате монгольских войн практически исчезли и растворились среди других, в том числе и нетюркских народов (венгров, египтян), многолюдные половецкие (кипчакские) племена.
Еще ранее на основе анализа исторических источников к выводу о преобладании представителей тюркоязычных и иных племен в ордах степных завоевателей Туркестана, Ближнего и Среднего Востока, Восточной Европы и Китая пришел В. А. Чивилихин [1982а, с. 27-29; 19826, с. 84]. Так, он приводит данные из “Памятки” средневекового арабского историка Рашид-ад-Дина о командном составе армии Чингисхана с указанием этнической принадлежности. “Личную тысячу Чингисхана возглавлял тангут (тибето-бирманская группа. – Б. В.) Чаган, самой крупной иноплеменной воинской частью в десять тысяч человек руководил Туганваншай из народа тунгусской этнической ветви – джурдже (чжурчжэ – ней), семью тысячами джалаиров командовали представители этого племени. В списке нойонов-тысяч – ников также значатся шесть татар, четыре ойрата (западные монголы), меркиты, урянхайцы (тюрки), онгуты, кара-хитаи (монголы) и так далее… Летописец среди народов, пришедших на Русь в орде Батыя, ставит на первое место «куманов», то есть кипчаков, половцев, недаром в старых русских исторических трудах и даже справочниках Золотая Орда называлась также ’’Кипчакской”. Арабский же историк Эло – мари, касаясь основного этнического состава Золотой Орды XIV века, совсем не упоминает монголов”.
Материальным стержнем обмена товарами и идеями для всей южной Азии был Великий шелковый путь, открытый во II в. до н. э. Он вел из Сиани в Китае через Ланьчжоу в Дуньхан, где раздваивался: северная дорога проходила через Турфан, Кашгар, пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи; южная – мимо оз. Лобнор, по южной окраине пустыни Такла-Макан через Яркенд и Памир (в южной части по Язгулемскому коридору) вела в Бадахшан и Бактрию, а оттуда в Парфию, Индию и на Ближний Восток [БСЭ. Т. 4, с. 412]. С ним конкурировал морской путь из Красного моря и Персидского залива в Индию и Китай. В конце I и начале II тысячелетия Великий шелковый путь контролировался Хазарским каганатом, арабами, персами, таджиками, а в течение 40-летнего существования единой Монгольской империи и при великом хане Хубилае (до конца XIII в.) – и монголами [Всемирная история. Т. 3, с. 525, 526]. По торговым путям вместе с купцами передвигались и миссионеры, в том числе манихейские и несторианские. Распространению христианского учения среди кочевников способствовала веротерпимость и даже покровительство Чингисхана и его преемников ко всем религиям и служителям культов. Только при Хубилае (внук Чингисхана, пятый великий хан Монгольской империи) в конце XIII в. предпочтение в Великом улусе было отдано одному из буддийских толков [Там же. С. 514, 525], а в западных улусах лишь в первых десятилетиях XIV в. возобладал ислам. Но все это произошло уже после основных завоевательных походов монголо-татар и вероятного попутного распространения ими по огромной территории Евразии топонимов на основе майдан.
- Итоги проверки новой гипотезы
- Проникновение в Тунгусский ареал
- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву
- Майдан как семантический аналог апокалипсического армагеддона
- Ирано-Иракский ареал
- Майданы в системе обороны Московского государства
- Догадки к новой гипотезе этимологии