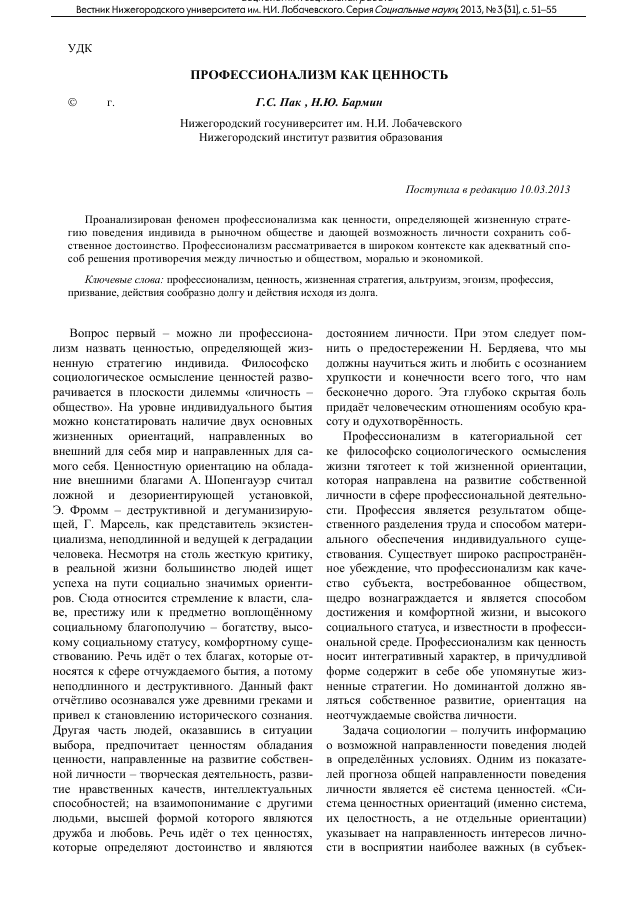приобретенные в процессе учебной и научно-исследовательской деятельности способности, знания и умения компетентно-творчески проводить научные исследования. А.А. Леонтьев (1990) выделяет четыре основных компонента П. в науке.
Первый из них (не по важности – все они в равной степени важны): владение материалом своей науки, ее, как любил выражаться А.Н. Леонтьев, «мясом». Имеется в виду прежде всего система профессиональных знаний в своей науке и в смежных науках. Не является, напр., профессиональным психологом человек, не знающий разницы между личностью и темпераментом, не слышавший имен Вебера и Фехнера, не читавший и не конспектировавший труды классиков мировой психологии. Нельзя назвать профессионалом языковеда, не помнящего наизусть основные семьи или группы языков мира, не представляющего себе основные различия между, скажем, русским и арабским, вьетнамским, грузинским языком, не знающего разницы между силовым и музыкальным ударением и т.д. Беда в том, что очень часто П. отождествляется только с этим компонентом. Не всякий, кто кончил психологический факультет МГУ и сдал все полагающиеся предметы, становится профессионалом.
Здесь есть, в свою очередь, две стороны. Мало знать аппарат сегодняшней науки и ее основные аксиомы. Не профессионал тот, кто не знает истории своей науки, не может оценить место сегодняшнего ее состояния в общем потоке научного развития, не умеет учиться на ошибках и достижениях науки прошлого. И глубоко прав был Л.С. Выготский, когда еще в 1928 г. утверждал: «судьбы психологической науки в стране революции могут быть поняты только в историческом аспекте, только в свете прошлого и будущего, только в большой перспективе, в динамике развития и катастроф».
Второй компонент: владение научным мировоззрением. Не ученый тот, у кого нет общенаучной картины мира, кто не задумывается над сущностью исследуемого им предмета и над методологией самого исследования. В этом смысле любой специалист по естественным, а тем более общественным наукам не может не быть одновременно и философом, т.е. он обязан уметь встать над своей наукой и над ее предметом, увидеть, как его наука вписывается в большую Науку, а ее предмет – в мир. Поэтому подлинной науке нечего делать с «ползучим» эмпиризмом, с прагматическим подходом, со стремлением разрабатывать детали, не думая о целом, с тенденцией ставить межевые столбы – их же не перейдешь – между «делянками» разных наук. По словам А.А. Леонтьева, сегодняшняя наука более всего страдает от дефицита такого, мировоззренческого, подхода. К данному компоненту относятся также и вопросы этики науки.
Третий компонент: владение умениями научного творчества, склонность и способность идти нехожеными путями, ставить и решать неизученные проблемы. Наука по самой природе своей – это не репродукция, т.е. не воспроизведение тех или иных известных истин, а продукция – создание и проверка новых истин. Профессио- нал-«репродуктор» не имеет никакого отношения к настоящей науке, пусть он числится хоть ведущим научным сотрудником Академии наук. Он годится в лучшем случае в лекторы общества «Знание», да и там сейчас голод на творческую мысль. Ученый – это тот, кто вложил пусть небольшую, но свою оригинальную лепту в общую копилку науки, человеческого знания, кто хоть раз высказал и обосновал то, что не пришло в голову никому другому.
Интересно, что дилетантам кажется, будто можно владеть третьим компонентом, не владея первым и вторым. И журналы, научные институты бывают засыпаны письмами людей, не знающих азов науки, но претендующих на новое слово в ней. Увы, хорошие мысли рождаются только из скрещения обширных профессиональных знаний и ясной мировоззренческой позиции. На пустом месте они не возникают.
И наконец, четвертый компонент – это владение технологией научной работы. Она различна в разных науках, нетождественна для теоретика и экспериментатора. Но всегда есть такие навыки, к-рыми ученый просто не может не владеть. Возьмем эксперимент. Не всякий профессионал-ученый умеет, скажем, сконструировать, а тем более собрать (изготовить) экспериментальную установку. Но есть минимум, к-рым обязан владеть и самый «абстрактный» теоретик, – это стратегическое планирование экспериментальной работы и разработка или по крайней мере аргументированный выбор принципиальной методики эксперимента. К профессиональным навыкам ученого относится и такой (часто забываемый), как способность разумно изложить свои мысли на бумаге, оформить их в виде статьи, доклада, диссертации, монографии… Я не хочу призывать к тому, чтобы сегодняшний научный работник, как во времена Галилея, сам делал своими руками все – для этого наука имеет обширную армию научно-вспомогательного и научно-технического персонала. Едва ли в апогее своей славы Менделеев сам мыл лабораторную посуду. Но смешно думать, что он не смог бы в случае необходимости сделать это не хуже своего лаборанта.
Обычно у ученого преобладает тот или др. компонент. Есть ученые, главная сила к-рых в их научном мировоззрении; таким был, по-видимому, В.И. Вернадский. Есть энциклопедисты, чья мысль постоянно оплодотворяется новым и новым знанием. Мне кажется, что таким был, напр., Чарльз Дарвин. Есть люди, вошедшие в историю науки переворотами научной мысли, определившие дальнейшие судьбы этой науки, люди супертворческого склада. Таким человеком в физике, судя по всему, являлся Альберт Эйнштейн, а в психологии – Зигмунд Фрейд. И наконец, бывают такие ученые, к-рые лучше всего чувствуют себя в лаборатории, у экспериментальной установки или компьютера. Вероятно, к ним относится Луи Пастер. Никто из них, однако, не ограничивался только одним компонентом научного П.: будь так, мы бы не вспоминали сейчас их имена.
- Использование вычислительной техники в управлении производством
- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность
- Искусственный интеллект
- АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву
- Малоизвестные страницы из жизни промышленных компьютеров
- Компьютерная проблема 2000 года