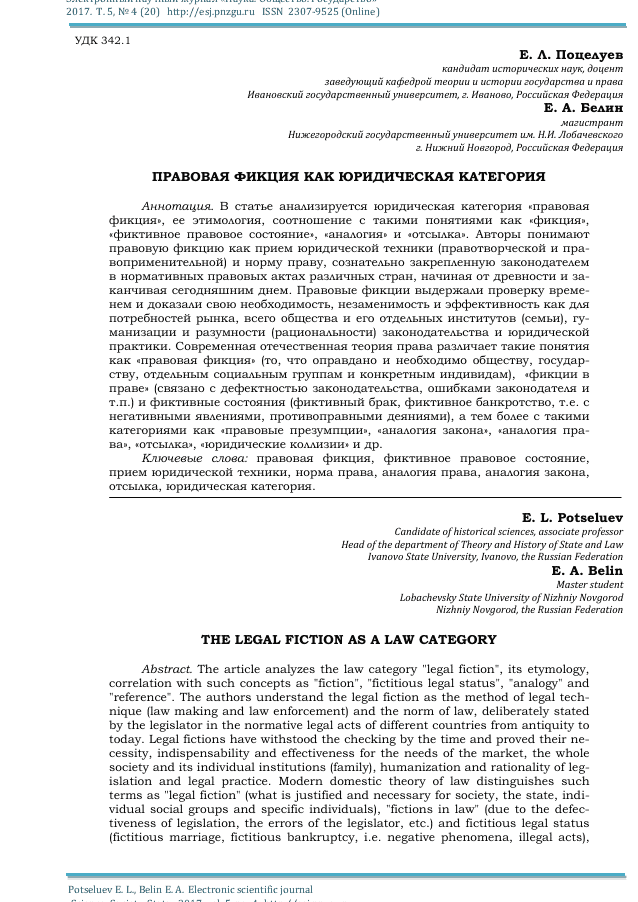понятие, не имеющее природных «референтов», т.е. объектов вне нас, к-рые эту фикцию обозначают. Но таких объектов мы не фиксируем не оттого, что они вообще не существуют, что природа ленива или не способна их породить, а потому, что наука еще не научилась их распознавать. Их допущение видится странным, граничащим с мистикой, иррациональным. Между тем странно не наше понятие, а то, что за ним стоит, та реальность, к к-рой оно пытается привлечь наш взгляд. Надо быть готовым к неожиданностям, к тому, что в любой момент природа способна предъявить невероятное.
В науке случалось, что, прежде чем обнаружить некие сущности в эксперименте, естествоиспытатель отыскивал их в своей мысли, в своей голове, принимая в качестве идеального, к-рому еще нет вещественного соответствия, и надеясь, что со временем оно найдется. Так, в пору интенсивных построений теории элементарных частиц получили виды на реальность немало таких образований, к-рые, по всем правилам «строгой мысли», подлежали изъятию из научного оборота. Но странное дело. Едва исполнилось четыре года призрачному существованию позитрона (антиэлектрона), как он был обнаружен в натуре. Та же судьба, но с разрывом в 12 лет – у одного из мезонов и в 25 лет – у нейтрино. Спросить их, а где они «жили» в прежние дни, почему не объявились?
Как видим, допущение ирреальности имеет смысл, оборачиваясь неуклонной теоретической, а вслед тому и практической пользой. Польза та, что, допуская такие умозрительные объекты, науке удается выстроить более или менее законченное теоретическое здание, в к-ром можно работать, хотя бы и запуская в теорию призраки, нелепости. Ведь если не грешить этим, придешь ли к чему – то стоящему?
Однажды, беседуя о судьбах познания, В. Гейзенберг, верный позитивистской норме устройства науки, заявил: мол, ученый вправе обсуждать только то, что поддается эмпирическому испытанию. А. Эйнштейн резко воспротивился и в ответ на это объявил: «Теория и решит, что именно можно наблюдать». Иными словами, не факты ведут за собой теоретическое описание, а, наоборот, оно предшествует факту и предвосхищает его.
В настоящее время хорошо известно, что хорошую теорию можно создать, и не имея полного списка реальных «действующих лиц». Часто она зарождается из противоречий в наличном теоретическом багаже или выступает естественным развертыванием логики предшествующих идей. К примеру, предложения теории относительности были составлены независимо от показаний опыта Майкельсона-Морли о постоянстве скорости света. Позднее, когда А. Эйнштейна допрашивали, знал ли он в пору создания теории об этом эксперименте, ученый ответил, что не помнит, по-видимому, не знал. Т.е. это не имело для него значения. Идея относительности возникла логически, как следствие из др. идей, а не из эмпирии.
- Стерегущие порог
- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность
- АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
- Кибернетика — наука ХХ века
- Жесткие диски (HDD)
- Искусственный интеллект
- Использование вычислительной техники в управлении производством